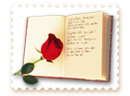 |
|
|
Ирреальная реальность романа Ф. Кафки «Процесс». Часть 1
Искусство Кафки, по его собственному мнению, не зеркало времени, а зеркало самого себя как типичного представителя этого времени. Вот почему так легко увидеть в Йозефе К. Кафку, а в городе, описанном в «Процессе», - Прагу. При этом, как отмечает исследователь Й. Борн, мы должны отличать биографические элементы, которые в ходе интеграции в литературное произведение, полностью растворяются в нем, от тех, чье значение до конца раскрывается только в свете биографии автора. Возможно ли в том же ключе решить вопрос о художественном времени романа и насколько образ Йозефа К. идентичен образу самого Кафки – пражского чиновника, жившего в центральной Европе в начале ХХ века? Исследователь А. Белобратов доказывает, что сходство автора и его героя более чем поверхностное. Так, например, Йозеф К. в свои тридцать лет занимает высокий пост в крупном банке, пользуется заслуженным уважением коллег и приятелей, что говорит о его несомненной одаренности, но при этом не проявляет никаких интересов, лежащих за пределами профессии. Его жизнь распланирована по часам: обычно К. сидит в конторе до девяти. Если освобождается раньше, то идет гулять, заходит в пивную. Иногда катается с директором банка на машине или ужинает у него на даче. Раз в неделю посещает барышню по имени Эльза. И никаких примет светской и культурной жизни (лишь один раз вскользь упоминается о посещении театра), никаких литературных и художественных увлечений, хотя Йозеф К., как сообщает автор, с юных лет разбирается в вопросах искусства, по этой причине его просят показать приезжему итальянцу собор. Между тем, пражские чиновники того времени любой национальности относились к высшему культурному слою, и для большинства из них совершенно немыслима была жизнь без чтения газет и художественной литературы, посещений театра, художественных выставок и т.п. Не сказано ни о каких спортивных или оздоровительных увлечениях героя. Кафка же, например, занимался плаванием и греблей, в его дневнике есть записи о походах с друзьями в купальню. Не посещает Йозеф К. многочисленные пражские кафе, которые были в то время в Австро-Венгрии и местом для встреч, и читальней, и клубом. Их устройство и различия были хорошо знакомы Кафке как завсегдатаю подобных заведений, несмотря на это лишь одно из них мельком упоминается в главе «Прокурор», не играя при этом, впрочем, никакой роли. Йозеф К. живет в пансионе, среди жильцов, явно находящихся на другой ступени общественной лестницы (например, фройляйн Бюрстнер – машинистка). Подобное место для старшего управляющего в банке совершено не подходит. Даже не имея семьи, человек такого положения обычно снимал уютно обставленную квартиру с прислугой. Белобратов подчеркивает, что «герой подчеркнуто антиинтеллектуален (не глуп, нет, но лишен каких бы то ни было культурных интересов, механически сконцентрирован на интересах своей профессии – служба в банке) и арефлексивен (не склонен к самоанализу)». Даже по субъективным ощущениям герой «Процесса» не живой персонаж из романной плоти и крови, ведь тогда он вызывал бы у читателя те или иные эмоции, например, сочувствие и симпатию, как Карл Росман из романа «Америка», пусть деформированного и абсурдного, но все-таки слепка с действительности. Однако нам не жалко Йозефа К. даже в конце произведения, где его, как собаку, казнят за неведомое преступление. Найти объяснение этому легко: герои «Процесса» и в ещё большей степени «Замка» не имеют лица, они движимы чужой волей, идут по проложенному для них пути, они всего лишь фигуры на шахматной доске. О них уже не скажешь: «Представляешь, что моя Татьяна учудила? Замуж вышла». «Процесс» - единственный роман Кафки, у которого есть конец, однако и у него нет начала. Время романа – настоящее, писатель исключает какую-либо ретроспекцию, ничего не сообщая ни о прошлом героя, ни о предыстории процесса. Так же, как в «Америке» или рассказе «Превращение», Кафка без лишних предисловий «бросает» читателя в водоворот событий. «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест» - так начинается «Процесс». Писатель не тратит времени на объяснение причин (исследователи не раз отмечали, что именно этот прием создает в его произведениях атмосферу кошмара наяву). В произведениях Кафки нет вступления, они начинаются сразу с завязки, со следствия без причины, не с первой, а со второй страницы. Причем осязаемая, реальная причина разворачивающихся событий так и не выплывает наружу, читатель до конца романа так и не узнает, что же такого страшного совершил герой, потому что вина его нематериальна. События, описанные в романе «Процесс» занимают ровно один год: в первой главе в день своего тридцатилетия Йозеф К. попадает под арест, а накануне его тридцать первого дня рождения за ним приходят двое, чтобы исполнить приговор. Выбор такого временного промежутка можно истолковать по-разному. С одной стороны, год – это завершенный цикл. За это время процесс Йозефа К. успевает пройти все стадии от полушутливого обвинения до страшной казни. С этой точки зрения, время замыкается, приводя героя к трагической развязке, которой он, казалось бы, не заслужил. Однако сам Кафка писал, что Йозеф К. виновен. В чем же состоит его вина? Возможно в том, что К. холоден, высокомерен, ни к кому не привязан по-настоящему, у него нет ни друзей, ни возлюбленной, и даже к больной матери он может не ездить по три года. Однако есть нечто гораздо большее. По мысли Кафки, человек с рождения отягощен экзистенциальной виной, которая будет довлеть над ним до самой смерти, и в его силах только признать её, облегчив тем самым свою участь, или бессмысленно пытаться доказать свою невиновность и поплатиться за это. Один из афоризмов Кафки гласит: «Грешно состояние, в котором мы пребываем, независимо от вины» . Вспомним роман «Америка». Какие бы беды ни сваливались на Карла Росмана, Кафка ни разу не вложил в его уста слова укора по отношению к судьбе или к людям, которые оказались виновными в его злоключениях. Карл прекрасно понимает: невозможно оправдываться, когда все вокруг уверены в твоей вине. Таким образом, можно сделать парадоксальный, на первый взгляд, вывод: главная вина Йозефа К. состоит в том, что он не признает своей вины. Символично, что начало процесса совпадает с днем рождения героя. Можно предположить, что описанный год – проекция всей его жизни. Если мыслить во времени, год – это не круг, а спираль, в которой конечная точка оказывается на том же месте, что начальная, но витком выше. Процесс в таком случае - это не только ход судебного разбирательства, но и ход самой жизни. За год Йозеф К. переживает духовную эволюцию и понимает то, что Карлу Росману было известно изначально. Надо сказать, что среди персонажей романа есть и те, кому такое развитие недоступно. Если Йозеф К., пытаясь найти правду в высших судебных инстанциях и разорвать огромную бюрократическую паутину, приближает непослушанием свой конец, то подхалим и хитрец Блок, ещё один клиент адвоката Гульда, который занимается делом К., наоборот, затягивает процесс. Но годы, бегущие мимо, не приносят ему радости, они похожи друг на друга, как две капли воды, и только отдаляют освобождающее раскаяние. Если принять начало процесса за исходную точку духовного преображения героя, особым смыслом наполняется и выбор времени года. Весна во многих традициях связывается с пробуждением к жизни, зарождением нового. Связано это, в первую очередь, с практикой земледельческих работ, когда дремавшая всю зиму земля просыпается и начинает приносить плоды. Для Йозефа К. весна становится смертельной, однако смерть его является одновременно и возрождением. Пока герой пытается добиться иллюзорной справедливости у таинственных судей, которые ни разу не появляются на сцене, процесс является для него замкнутым кругом, и чем активнее он пытается выбраться за его пределы, тем сильнее проигрывает. Но как только К. понимает смысл происходящего, он вырывается за пределы круга. Процесс освобождения выражается даже физически. В последней главе сначала читаем, что палачи «… повисли на нем так, как еще ни разу в жизни никто не висел … и все трое так слились в одно целое, что если бы ударить по одному из них, удар пришелся бы по всем троим». К. сопротивляется, но вдруг, увидев фройляйн Бюрстнер или женщину, похожую на нее, понимает бессмысленность своих действий. К нему возвращается чувство собственного достоинства: «…единственное, что я могу сейчас сделать, - это сохранить до конца ясность ума и суждения… Неужто я так и уйду тупым упрямцем? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце, - начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили! Я благодарен, что на этом пути мне в спутники даны полунемые, бесчувственные люди и что мне предоставлено самому сказать себе все, что нужно». К. вырывается за все границы, теперь он готов принять на себя вину и получает за это свободу передвижения в пространстве. Уже не палачи ведут его, а он их. Как писал Кафка в одном из своих афоризмов: «Первый признак начала познания – желание умереть. Эта жизнь кажется невыносимой, другая – недостижимой». Исследователь К. Нобл отмечал, что «именно опыт бренности-безысходности человеческой жизни открывает для Йозефа К. существование Вечного и Подлинного, что, тем не менее, не обещает спасения». Продолжение следует…
|
|
|
Дата: 23.05.2014
|
|







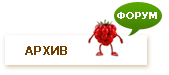
 Начало работы над романом «Процесс» совпало с весьма сложным периодом в жизни Кафки. 12 июля 1914 года в ресторане «Асканийское подворье» в Берлине была расторгнута его помолвка с Фелицей Бауэр. Такой итог взаимоотношений молодых людей, разных по характеру и мировоззрению, которые общались, главным образом, посредством писем, был закономерен, однако Кафка тяжело переживал разрыв. В дневнике он называет это событие «трибуналом». В тот момент Кафке только-только исполнился 31 год (писатель родился 3 июля). В романе палачи приходят к Йозефу К. накануне его 31 дня рождения. На основании этих совпадений исследователь Х. Биндер делает вывод, что «Процесс» является художественным переживанием непростых отношений с Фелицей Бауер, а казнь в последней главе не что иное, как аллюзия на болезненный разрыв помолвки. Безусловно, многие авторы умышленно или непреднамеренно включают в свои произведения элементы автобиографии, и Кафка не исключение, однако намного важнее для писателя было создать собственную фантасмагорическую, сновиденческую действительность, в которой переплетаются историко-бытовой, мифологический, литературный пласты и, конечно, отголоски чувств и переживаний самого Кафки. Исследователи неоднократно писали, что герои Кафки не характеры, а лишь фигуры, носители действия, а любое его произведение – это притча.
Начало работы над романом «Процесс» совпало с весьма сложным периодом в жизни Кафки. 12 июля 1914 года в ресторане «Асканийское подворье» в Берлине была расторгнута его помолвка с Фелицей Бауэр. Такой итог взаимоотношений молодых людей, разных по характеру и мировоззрению, которые общались, главным образом, посредством писем, был закономерен, однако Кафка тяжело переживал разрыв. В дневнике он называет это событие «трибуналом». В тот момент Кафке только-только исполнился 31 год (писатель родился 3 июля). В романе палачи приходят к Йозефу К. накануне его 31 дня рождения. На основании этих совпадений исследователь Х. Биндер делает вывод, что «Процесс» является художественным переживанием непростых отношений с Фелицей Бауер, а казнь в последней главе не что иное, как аллюзия на болезненный разрыв помолвки. Безусловно, многие авторы умышленно или непреднамеренно включают в свои произведения элементы автобиографии, и Кафка не исключение, однако намного важнее для писателя было создать собственную фантасмагорическую, сновиденческую действительность, в которой переплетаются историко-бытовой, мифологический, литературный пласты и, конечно, отголоски чувств и переживаний самого Кафки. Исследователи неоднократно писали, что герои Кафки не характеры, а лишь фигуры, носители действия, а любое его произведение – это притча.
 Удивительна земля Белоруссии. Всего в трех километрах на Юг от Гомеля располагается село Ченки, насчитывающее примерно четыре с половиной тысячи жителей. Село как село, обычные деревенские дома усадебного типа
Удивительна земля Белоруссии. Всего в трех километрах на Юг от Гомеля располагается село Ченки, насчитывающее примерно четыре с половиной тысячи жителей. Село как село, обычные деревенские дома усадебного типа
 Выставка скульптурных рельефов, выполненных в дереве, которые Народный художник России - Кронид Гоголев создавал в течение последних 25 лет жизни.
Выставка скульптурных рельефов, выполненных в дереве, которые Народный художник России - Кронид Гоголев создавал в течение последних 25 лет жизни.